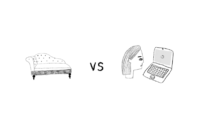Сверх-Я: краткая история понятия на пути к семинару Лакана об этике
Глеб Напреенко. Ридинг-группа «Лакан: практика чтения». 11 ноября 2019 г.
Публикуем доклад психоаналитика Глеба Напреенко, прочитанный в рамках встреч по чтению 7 семинара Жака Лакана “Этика” в рамках Клинической программы.
Одним из поводов сделать этот доклад послужил фрагмент из первой главы 7 семинара Лакана: «Это я, которое должно явиться там, где (нечто) было, и которое анализ учит нас измерять, является не чем иным, как тем самым, чьи корни уже даны нам в том Я, что задается вопросом о том, чего оно хочет. Его не просто расспрашивают — нет, с течением времени, набираясь опыта, оно задается этим вопросом само, и ставит оно его именно там, откуда исходят те зачастую чуждые, безжалостные, парадоксальные императивы, которые предлагаются ему болезненными переживаниями. Подчинится или не подчинится он тому долгу, который ощущает в себе самом как чужой, потусторонний, вторичный? Должен или не должен он повиноваться императиву сверх-Я — парадоксальному, болезненному, полубессознательному и открывающемуся, настаивающему на себе все больше по мере того, как продвигается аналитическая работа и пациент видит, что назад ему пути нет? Не состоит ли подлинный его долг в том, чтобы идти, если можно так выразиться, против этого императива?»
В императивах Сверх-Я есть нечто принципиально непонятное. Это — вовсе не голос социальной прагматики или обыденного здравого смысла. И необходимость обойтись с непонятностью требований Сверх-Я — в той или иной мере вызов для субъекта.
Примером тому могут служить различные клинические случаи — например, случай подростка, которого преследуют императивные слуховые галлюцинации голоса матери, но который наделил свою карманную игрушку особым голосом и разыгрывает между ней и собой воспитательные сценки детско-родительских отношений, тем самым как-то кадрируя жесткое Сверх-Я.
Можно вспомнить и о знакомых многим упреках совести — помимо понятной составляющей в них есть нечто избыточное, некое «слишком», которое как раз и указывает на задействованность в этих упреках Сверх-Я.
Предшественником понятия Сверх-Я у Фрейда является понятие о цензуре. Цензура связана с неким разломом в речи, разломом между вытесняемым и высказанным, при этом цензура мыслится как то, что противостоит артикуляции желания.
Сверх-Я тоже содержит некий разлом, но дела тут обстоят сложнее: это разлом внутри закона, который нельзя свести к вытеснению и противостоянию артикуляции желания. Сверх-Я во многом бессознательно, а его корни те же, что и корни желания.
Чтобы осмыслить различие теории цензуры и теории Сверх-Я нужно иметь в виду, что для Фрейда между ними изменились две вещи:
- Было введено влечение к смерти в статье «По ту сторону принципа удовольствия» — влечение, без которого невозможно помыслить страстную жестокость Сверх-Я;
- Была создана теория идентификации (в первую очередь, в «Психологии масс и анализе человеческого Я», где, в том числе, речь идет об Идеале Я) — позволяющая усмотреть истоки Сверх-Я в идентификациях.
Фрейд вводит понятие Сверх-Я в работе «Я и Оно», где отношения между Я и Сверх-Я осмысляются через разлом между Я и его объектными (в первую очередь, идентификационными) нагрузками.
В «Я и Оно» Фрейд укореняет Сверх-Я в идентификациях двух типов, двух уровней.
Во-первых, это идентификация, связанная с первичной зависимостью человека от Другого и риском быть оставленным им. Как о первичной основе социальной связи будет далее говорить об этой зависимости Лакан. Мы можем сказать, что именно на этом уровне располагается Сверх-Я в клинике меланхолии. В «Я и Оно», как и в «Психологии масс» первичная идентификация для Фрейда, связанная с оральной (даже каннибалистической) инкорпорацией — это именно идентификация с отцом (а не с матерью, как можно было бы подумать).
Во-вторых, это идентификации, возникающие вследствие эдипова комплекса. Конфликтность отношений Я с его нагрузками здесь выступает как следствие конфликтности этого комплекса. Фрейд пишет о двуликости Сверх-Я: ««Сверх-Я» – не просто осадок первых выборов объекта, производимых «Оно»; «Сверх-Я» имеет и значение энергичного образования реакций против них. Его отношение к «Я» не исчерпывается напоминанием – таким (как отец) ты должен быть, но включает и запрет: таким (как отец) ты не имеешь права быть, ты не можешь делать все, что делает он, на многое только он имеет право». Именно на этом уровне заявляет о себе Сверх-Я, например, в неврозе навязчивости.
Говоря о клинических примерах, в которых заявляет о себе функция Сверх-Я, Фрейд в «Я и Оно» в первую очередь упоминает меланхолию и невроз навязчивости. В меланхолии, пишет Фрейд, Сверх-Я гневается на объект, включенный в Я, в неврозе навязчивости — на бессознательные побуждения, оставшиеся вне Я. В связи с меланхолией Фрейд пишет о риске для младенца быть оставленным матерью — и к этому риску возводит смертную тревогу меланхолика быть нелюбимым Сверх-Я. В связи с неврозом навязчивости Фрейд говорит о мучительном чувстве вины, уходящем корнями в вину бессознательную (можно вспомнить здесь случай человека с крысами): «Можно пойти дальше и отважиться на предпосылку, что нормальным образом большая часть чувства вины должна быть бессознательной, так как возникновение совести тесно связано с Эдиповым комплексом, который принадлежит бессознательному. Если кто-нибудь захотел бы защитить парадоксальное положение, что нормальный человек гораздо неморальнее, чем полагает, но и гораздо моральнее, чем он это осознает».
Наконец, как о примере проявления Сверх-Я Фрейд говорит также об особом типе негативной терапевтической реакции, при котором в ответ на похвалу со стороны аналитика состояние пациента ухудшается.
В других текстах Фрейд также связывает со Сверх-Я наблюдающую инстанцию в паранойе.
Итак, Сверх-Я связано с чем-то в идентификациях, вошедших в Я, что, однако, Я противостоит. Можно сказать скорее в логике Лакана, что Сверх-Я есть некий разлом, возникающий при идентификации, который идентификация не может зашить. Этот разлом в «Я и Оно» Фрейд пытается также представить как распад влечений при идентификации с отцом — эротические влечения при сублимации при создании отцовского Идеала отщепляются от влечения к смерти, и последнее придает жестокость Сверх-Я.
Наконец, в «Я и Оно» Фрейд пишет о связи Сверх-Я со словесными представлениями: ««Сверх-Я» не может отрицать и своего происхождения от слышанного – ведь оно является частью «Я» и остается доступным сознанию со стороны этих словесных представлений (понятий, абстракций), но энергия загрузки доставляется этому содержанию «Сверх-Я» не из слуховых восприятий, обучения и чтения, а из источников в «Оно»»
Фрейд также много пишет о Сверх-Я в «Недовольстве культурой».
Продолжая логику «Я и Оно», Фрейд возводит вину к тревоге перед потерей любви — любви того Другого, от которого зависит субъект — изначально любви родительской. Более того, о вине Фрейд говорит тут как о топической разновидности тревоги. (Первичную тревогу можно мыслить так, что, будучи оставленным Другим, младенец оказывается переполнен несвязанным возбуждением, неразрешимым без ответа Другого). Пытаясь следовать за Фрейдом, можно рискнуть сказать, что в некоторых случаях сознание вины может быть способом обойтись с тревогой. Недаром Фрейд также говорит о сознании вины как о потребности в наказании, — а наказание уже есть некий ответ Другого (в то время как в тревоге желание Другого остается загадкой).
Кроме того, в «Недовольстве культурой» этом Фрейд излагает три теории происхождения Сверх-Я, не полностью согласовывая их друг с другом.
Теория 1: Сверх-Я возникает из последовательной интроекции наблюдающей (родительской) инстанции.
Теория 2: Фрейд переворачивает обыденную логику «совесть вызывает отказ от влечения» на обратную, психоаналитическую: совесть создается первым отказом от влечения, который требует ещё и ещё дальнейших отказов. Фрейд связывает чувство вины с подавленной при таком отказе агрессией. Тут можно (с осторожностью) вспомнить лакановские размышления о связи вины с предательством желания.
Теория 3: Все-таки идентификации с настоящими родителями недостаточно как объяснения силы Сверх-Я. В совести есть нечто не вполне понятное. Хотя императивы Сверх-Я связаны с родителями (с тем, что они говорили), но его сила не зависит от того, мягкие или жесткие были родители. И здесь Фрейд, констатируя, что онтогенеза недостаточно, вводит филогенетическую гипотезу: в корне Сверх-Я лежит реальное преступление — убийство отца орды из «Тотема и табу». Это реальное преступление предшествует возникновению закона. Говоря языком Лакана, Фрейд вводит отца орды и факт его убийства как миф на месте непонятности Реального, Реального заявляющего о себе в Сверх-Я. Фрейд покрывает Реальное мифическим Отцом.
Любопытно также, что в «Недовольстве культурой» Фрейд ставит в один ряд вину и симптомы: симптомы происходят из подавления и превращения сексуальных компонент влечений, а вина — из подавления и превращения агрессивных компонент. Лакан далее формулирует эту смежность Сверх-Я и симптомов по-своему, например, говоря в 4 семинаре, что есть такие особые означающие, которые помечают отношение человека к означаемому: это, во-первых, Сверх-Я, во-вторых, симптомы (пример из практики Лакана, поясняющий тезис о родстве симптома со Сверх-Я, — ниже: случай мусульманина, испытывавшего затруднения с работой своей руки).
Наконец, в «Недовольстве культурой» Фрейд вводит понятие не просто личного, а культурного Сверх-Я, призывая пользоваться им с большой осторожностью. Важно отметить отличие культурного Сверх-Я от Идеала Я, место которого занимает вождь, в «Психологии масс»: Сверх-Я — не просто идеал, но фигура, перед которой мы все провинились — например, Иисус Христос. Пример невыполнимого требования христианского Сверх-Я «возлюби ближнего своего как самого себя».
Теперь перейдем к Лакану периода до 7 семинара.
Лакан вводит несколько новаций в понимание Сверх-Я.
Он говорит о сводимости Сверх-Я к чистому означающему — означающему в пределе бессмысленному, но завораживающему. Примером тому — случай работы госпожи Лефор с мальчиком, который говорил лишь одно слово «волк» (развернутый комментарий Лакана к этому случаю — ниже).
Соответственно Лакан ставит вопрос о соотношении бессознательного и Сверх-Я, где оба являются эффектом языка, но возникновение Сверх-Я способно осуществиться без возникновения бессознательного — в пример в 4 семинаре Лакан приводит собаку, оплакивающую своего хозяина — при том что дикие животные, не столкнувшиеся в своей жизни с отношениями, связанными с означающим (отношениями с хозяином), к трупам равнодушны. Лакан говорит, что у такой оплакивающей хозяина собаки есть Сверх-Я, хотя может не быть бессознательного.
Далее — и это ключевой момент — Лакан связывает Сверх-Я с фрейдовским Verwerfung, форклюзией, непризнанием. И это очень радикальный ход: корень Сверх-Я для любого субъекта — в том, что никак не может быть признано, и уж тем более понято. Можно сказать, что в Сверх-Я есть что-то, что делает всех нас безумными.
Определяя в связи случаем Человека с волками во времена 1 семинара в «Вариантах образцового лечения» Сверх-Я как «бездну, которую разверзает в воображаемом любое отвержение [Verwerfung] заповедей речи», Лакан далее в 4 семинаре говорит уже о возвращении в реальном того, что не было признано в символическом (его классическая формула психотического феномена, восходящая к Фрейду), также связывая это возвращение со Сверх-Я: с одной стороны, речь и о вербальных галлюцинациях в психозе, имеющих форму императива, иногда пустого, бессмысленного, но, с другой стороны, речь и о том, что остается не признанным в кастрации для любого субъекта. Здесь можно говорить об укоренности Сверх-Я в Реальном, о которой будет речь, в частности, в 7 семинаре.
В качестве примера можно вспомнить явившегося из ада призрака грешного отца Гамлета, — призрака, о котором в 6 семинаре Лакан говорит как о Сверх-Я. В течение всего действия пьесы Гамлет пытается как-то обойтись с выдвинутым ему этим призраком императивом — и делает это только ценой причастности смерти: одним из ключевых пунктов драмы, по Лакану, оказывается момент, когда Гамлет прыгает за Лаэртом в дыру могилы Офелии.
Также Лакан разрабатывает отличие Сверх-Я от Идеала Я. Идеал-Я — поддерживает закон, накладывая шов на символическое, придавая ему форму воодушевляющей субъекта фигуры, Сверх-Я — напротив, раскрывает дыру в законе, подавляя, а не воодушевляя субъекта. В связи со случаем маленького Ганса в 4 семинаре Лакан говорит, что мы не можем говорить о «классическом» эдипальном формировании Сверх-Я у Ганса, хотя налицо важность для Ганса функции материнского Идеала.
Наконец, Лакан упорядочивает в 5-6 семинарах проблематику Сверх-Я при помощи своего графа желания. Место Сверх-Я — в самой правой части графа, по ту сторону возвращения означаемого и означающего от Другого — как по ту сторону того, что может быть понято (на первом, нижем этаже графа), так и по ту сторону того, что может быть проинтерпретировано бессознательным (на втором, верхнем этаже графа). Это пространство по ту сторону Другого распахивается вопросом «Чего хочешь?», вопросом о желании Другого, задаваемым «влюбленным дьяволом» Жака Казота, которого Лакан называет в 6 семинаре олицетворением Сверх-Я.
Исток Сверх-Я, размещаемый на первом этаже графа справа, Лакан вслед за кляйнианской традицией называет на последней встрече 5 семинара «материнским Сверх-Я»; на той же встрече он разрабатывает проблематику вины в неврозе навязчивости, возводя ее к убийству желания артикуляцией требования.
И за клиническими примерами вернусь к 1 семинару, где Лакан дважды говорит о Сверх-Я именно в связи с конкретными случаями — при чем очень разными: это случай ребенка, с которым занималась мадам Лефор, и случай мужчины-мусульманина из собственной практики Лакана. В первом случае — субъект, изъясняющийся лишь один означающим: «Волк», во втором — субъект, находящийся в сложных отношениях с законом Корана. В завершение я привожу две развернутые цитаты из 1 семинара с комментарием Лакана к первому и второму случаю:
1. (из ответа госпоже Лефор) «Сверх-Я — это императив. Как свидетельствует его здравое понимание и использование, сверх-Я однородно регистру и понятию закона, т. е. совокупности системы языка, поскольку оно определяет положение человека как такового, не только как биологической особи. С другой стороны, нужно также подчеркнуть, в противоположность этому, его безрассудный, слепой характер чистого императива, простой тирании. В каком же направлении может быть произведен синтез этих понятий?
Сверх-Я имеет отношение к закону, и в то же время это закон безрассудный, вплоть до того, что он превращается в непризнавание закона. Мы видим, что именно таким образом действует сверх-Я у невротика. Не потому ли, что мораль невротика безрассудная, разрушительная, только угнетающая и почти всегда противозаконная, — не потому ли потребовалось в психоанализе разработать функцию сверх-Я?
Сверх-Я — это одновременно закон и его разрушение. Таким образом, он даже является речью, заповедью закона в той мере, как от этого последнего остается лишь корень. Закон целиком сводится к чему-то, что нельзя даже выразить, как «Ты должен» речь, лишенная всякого смысла. Именно в этом смысле сверх-Я в конце концов сводится к отождествлению с тем, что в первоначальном опыте субъекта представляется как наиболее опустошающее, завораживающее. В конечном счете, сверх-Я отождествляется с тем, что я называю «страшилищем», с фигурами, связанными с какими бы то ни было первичными травмами, перенесенными ребенком.
В этом, особо показательном, случае мы видим данную функцию языка воплощенной, мы прикасаемся к ее наиболее редуцированной форме, сведенной к одному слову, смысл и значение которого для ребенка мы даже не способны определить, но эта функция, тем не менее, связывает его с человеческим сообществом. Как вы правильно указали, это не просто одичавший ребенок-волк, это говорящий ребенок и именно посредством восклицания «Волк» у вас с самого начала была возможность установить с ним диалог».
2. (случай мусульманина) «Бессознательное, в принципе, представляет собой раскол, ограничение, отчуждение, вызванное в субъекте символической системой. Сверх-Я является аналогичным расколом, который совершается в символической системе, интегрированной субъектом. Такой символический мир не ограничен субъектом, поскольку он реализуется в языке, который является общим языком, универсальной символической системой поскольку он господствует в определенном сообществе, к которому принадлежит субъект. Сверх-Я является таким расколом, возникающим для субъекта — но не только для него — в его отношениях с тем, что мы назовем законом.
В качестве иллюстрации я приведу вам пример; ведь то, чему вас в психоанализе учили, не позволило вам хорошенько свыкнуться с данным регистром, и вы, пожалуй, думаете, что я выхожу за его границы. Ничего подобного.
Речь пойдет об одном из моих пациентов. Он уже проходил анализ у кого-то другого, прежде чем обратился ко мне. Он страдал весьма своеобразными симптомами, связанными с работой руки — органа, характерного для известного рода развлечений, на которые психоанализ пролил достаточно света. Анализ, проводившийся согласно классической линии, безуспешно усердствовал в том, чтобы любой ценой упорядочить различные симптомы пациента вокруг детской, конечно же, мастурбации и связанных с ней запретов и наказаний, исходивших со стороны окружения ребенка. Такие запреты существовали, поскольку они существуют всегда. К сожалению, это ничего не объясняло и не решало никаких проблем.
Этот пациент исповедовал — данный элемент его истории нельзя утаить, хотя сообщение частных случаев в ходе преподавания всегда является очень деликатным моментом — ислам. Однако одним из самых поразительных элементов истории его субъективного развития было его отвращение, неприязнь к закону Корана. Этот закон является чем-то бесконечно более всеобъемлющим, нежели все, что мы можем представить себе в нашем культурном мире, который был определен правилом «кесарю — кесарево, а богу — богово». В исламском мире, напротив, закон обладает тотальным характером, совершенно не позволяющим выделить юридическую плоскость из плоскости религиозной.
Итак, этот пациент не признавал закона Корана. Для субъекта, принадлежащего культурному миру ислама всем своим прошлым и будущим, всеми своими функциями — это было совершенно поразительно, если учитывать вполне здравую, на мой взгляд, мысль, что мы не в силах не признавать символическую принадлежность субъекта. Что открывает нам прямую дорогу к тому, о чем шла речь.
А закон Корана гласит, в действительности, следующее: тому, кто повинен в краже, — «будет отрезана рука».
В детстве мой пациент пережил события, которые можно сравнить разве что с вихрем, пронесшимся как в его домашней жизни, так и в общественном мнении, а дело было примерно в следующем: он слышал — и это было настоящей драмой, когда его отец, бывший чиновником, потерял свое место — что его отец проворовался и должен был, соответственно, лишиться руки.
Конечно, уже давно такое предписание не приводится больше в исполнение — ровно как и законы Ману: «тот, кто совершил инцест со своей матерью, да вырвет свой детородный орган и, неся его в руке, отправится к Западу». Однако такое предписание остается вписанным в символический порядок, который закладывает основу межчеловеческих отношений и который называется законом.
Итак, данное высказывание оказалось для субъекта выделено среди остального содержания закона совершенно особым образом. И оно перешло в его симптомы. Остальная часть символических соотнесений моего пациента, его исконных тайн, вокруг которых организовывались для этого субъекта его существеннейшие отношения к универсуму символа, — несла на себе оттиск резкого преобладания для него данного предписания.
Оно оказалось в центре целого ряда симптоматических бессознательных выражений, недопустимых, конфликтных, связанных с этим основополагающим опытом его детства.
По мере продвижения анализа, как я вам указывал, именно при приближении к травматическим элементам — укорененным в образе, который так и не был интегрирован, — в упорядочении истории субъекта, синтезе ее, возникают дыры, точки разлома. Как я вам указывал, именно этими дырами и обусловлена для субъекта возможность вновь объединиться относительно различных символических детерминант, которые творят из него субъекта, имеющего свою историю. И точно так же, для каждого человеческого существа именно по отношению к закону, с которым человек себя связывает, соориентировано все, что может отличать его как личность. История человека упорядочивается законом, символическим универсумом закона, который не одинаков для всех.
Традиция и язык обуславливают разнообразие отнесенностей субъекта. Высказывание не законосообразное, не подзаконное, выведенное на первый план благодаря травматическому событию и сводящее закон к чему-то недопустимому, неприемлемому, наподобие занозы — вот что представляет собой та слепая, нудная инстанция, которую мы обычно определяем термином Сверх-Я».