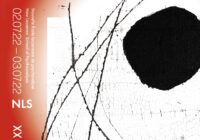Что в психоанализе интерпретирует?
Инга Метревели . Международный психоаналитический журнал №9
Для аналитического сеанса не существует критериев успешности или правильности — о нём можно только сказать, что он состоялся. Он состоялся, если произвёл некий эффект, который также не может быть просчитан заранее. И нередки такие сеансы, по окончании которых анализант выходит с откровенным непониманием происходящего и даже с вопросом: произошло ли вообще хоть что-то? Аналитик молчит, восседая позади кушетки, вне поля зрения анализанта; лишь дыхание выдаёт его присутствие. Да, иногда появляются и другие звуки: скрип стула, отбивание клавиш компьютерной клавиатуры, стук пальцами по столу, вздох, зевок — и ни единого слова. Слово в этом весьма странном мероприятии предоставляется лежащему на кушетке, и говорить ему предлагается всё, что приходит в голову.
Действительно, в начале анализа в голову может приходить одновременно множество вещей; однако довольно скоро анализант сталкивается с тем, что всего сказать не получается. Более того, ему кажется, что он постоянно говорит не о том, а для того слов как раз не находится, и поначалу он склонен приписывать эту невозможность ограниченному времени сеанса, а не особенностям строения самого языка и собственной речи. Его к тому же сбивает с толку отсутствие чёткого знания о длительности сеанса: совершенно непонятно, в какой момент аналитик совершит свой в подавляющем большинстве случаев единственный акт — остановит речь анализанта.
Анализант искреннее страдает и пытается найти подходящие слова, передающие аналитику тяжесть этих страданий; он старается «понравиться» аналитику, произнося высокопарные речи, пестрящие научно-философскими терминами, или же чётко формулирует свою мысль с намерением правильно сказать; он с радостью приносит многочисленные сны, потому что они дают его речи готовый материал. Но чем дольше длится анализ, тем реже в ответ на все эти старания анализанта аналитик проявляет своё присутствие. На страдание он отвечает многозначительным «угу», во время сладкоречивой околонаучной тирады зевает, нетерпеливо ёрзает в своём кресле при появлении очередного складного сна-интерпретации; говорит он ещё реже и вовсе не там, где от него ожидается ответ. Удивительно, что именно благодаря этому молчанию, пробираясь через пропасти непонимания и нагромождение собственного смысла, анализант неизбежно меняет структуру и содержание своих высказываний. Постепенно он начинает действительно прислушиваться к тому, что произносит — даже (и особенно) там, где сказанное сложно себе присвоить.
Вот здесь-то высказывание аналитика может в полной мере произвести свой эффект. И речь не только об оговорках или отрицании, как, например, при описании содержания и образов сновидения: не дав им остаться незамеченными, аналитик выступает лишь как страж со стороны образований бессознательного. Главное всегда располагается на поверхности и у всех на виду, подобно «украденному письму» Эдгара По, и аналитик размещает себя по отношению к речи анализанта в позиции, которая позволяет выделить в её свободном течении ключевые повторяющиеся элементы — повторяющиеся при полном неведении анализанта, ибо он сам не ведает, кто говорит.
«Вы говорите, что все женщины — дуры (bêtes). Имеется в виду — звери (bêtes), как животные?» — наконец произносит аналитик несколько ворчливым тоном. И вот она, уже несколько раз произнесённая в разных контекстах фраза, внезапно становится выпуклой и искрящейся, словно неоновая вывеска. Оцепеняющее изумление лишает анализантку дара речи, и в этой звенящей тишине обрывается сеанс.
Основанный на омонимии экивок становится возможен благодаря переходу из родного языка в поле языка психоаналитического опыта. Он производит вынужденную остановку в автоматоне речи, где вся высокопарность предыдущих рассуждений осыпается, словно выцветшее оперение, оставляя после себя лишь неприглядный остов нелепого содержания. Равенство женщины—дуры, затерявшееся среди стройной вереницы означающих родного языка, отныне подчёркнуто и выделено курсивом в тексте языка, на котором говорит бессознательное: от его вычурности уже невозможно уклонить взгляд, его абсурдность уже не удаётся скрывать за означающими. Но самое удивительное, что вызывает такой эффект встреча вовсе не с другим значением, вызывающим ликование от получения столь желанного правильного смысла: ах, вот как на самом деле! Тогда с чем же встреча?
С бессмыслицей.
Прежде чем перейти к последствиям этой интервенции, мы можем задать вполне справедливый вопрос: а кто и что здесь интерпретирует? Не правда ли, обычно мы «слишком заворожены speech act’ом аналитика»1, приписывая его редким высказываниям статус настоящей интерпретации, которая основывается на его особом, аналитическом знании об анализанте. В данном же случае, если мы остаёмся на уровне смысла, свои познания аналитик демонстрирует разве что в лингвистике. Акт его высказывания располагается, таким образом, не над уровнем высказывания анализанта (такой взгляд приводит к ложным выводам о том, что интерпретация — это некий особый язык аналитика, его метаязык) — напротив, он больше соответствует уровню бессознательного, которое, будучи само структурировано как некий язык, способно «намекать, подразумевать, создавать тишину, представляться оракулом, цитировать, загадывать загадку, недоговаривать, разоблачать»2, — другими словами, оно только и делает, что интерпретирует, шифрует и дешифрует. Такое понимание работы бессознательного-толкователя можно соотнести с процессом бредообразования, когда встреча с загадочным элементом бытия S1, для которого не находится готового значения, неизбежно запускает работу по поиску означающего S2, способного придать обнаруженному элементу смысл. Так вот, в этой лаборатории по производству знания бессознательное не имеет себе равных: другой, пусть и аналитик, ему вовсе ни к чему. Роль аналитика, таким образом, рискует свестись к очередному источнику поступления S2, служащему бесконечному процессу шифрования — ведь такое означающее, щедро подаренное аналитиком, также может встроиться в безупречно выстроенную бессознательным систему, которая его, в лучшем случае, просто поглотит.
Как же в таком случае вставить палку в колесо непрекращающегося смыслообразования бессознательного? Ведь любое слово аналитика, даже иное прочтение интерпретации бессознательного, лишь расширяет и без того безграничную паутину значений. Если означающее S2 неспособно остановить выработку смысла, то аналитику остаётся «удержать S2, не добавляя его с целью определить S1, чтобы привести субъекта к самым элементарным означающим, по поводу которых он бредил в своём неврозе»3. Его задача состоит в изолировании означающего из произведённой бессознательным интерпретации, в отделении его от всех значений — то есть вместо операции добавления смысла аналитик производит разрез связи S1-S2, приводящий к вычитанию смысла. Каковы следствия этого вычитания? Утечка смысла позволяет встретиться с тем, что этот смысл был призван обозначить и локализовать: с наслаждением, связанным с единичным означающим, которое существует само по себе, вне семантического поля. На обнаружение этого наслаждения, а не на успешное переформулирование бессознательного знания, и нацелен аналитический акт.
И мгновенное замешательство, вызванное высказыванием аналитика, в первую очередь позволяет судить о произведённом им разрезе, в результате которого изолируется означающее.
Женщина — …
Что же сработало в результате интервенции аналитика? Во-первых, она ставит под сомнение истинность аксиомы «все женщины — дуры», расшатывая его укоренившийся и одновременно неосознанный смысл. Действительно, фраза, целиком проглоченная из дискурса родительского Другого в её брутальном виде, выдавалась анализанткой в её собственной речи за истину. Во-вторых, интервенция вводит разрыв в герметичность этого высказывания, отделяя означающее один «женщины» от намертво прилепленного к нему означающего два «дуры» — иначе говоря, изолируя S1 благодаря рассечению его бессодержательной и псевдологической связи с S2. В-третьих, она не привносит нового смыслового означающего по отношению к женщинам: слово остаётся тем же, но обнаруживается гротескность и бессмысленность обоих его значений. Потому что — в-четвёртых, — изречение аналитика метит и попадает в заключённое в этой фразе собственное наслаждение анализантки, приписываемое до этого момента тому Другому, за которым признавалось авторство этой фразы. Доказательство: интервенция вызывает сложный аффект на уровне тела, это одновременно стыд, возмущение и смех. Именно в этой точке аналитик производит свой следующий акт, приводящий субъекта к «непрозрачности его наслаждения» — «прерывание сеанса до его завершения»4.
Вместо попытки выяснить, например, происхождение этой идеи и в очередной раз запустить рассказ о противоречиях в дискурсе материнского Другого, аналитик останавливает сеанс. Иначе говоря, не поддерживая речь, ведущую к раздуванию и без того абсолютно воображаемой идеи, аналитик оставляет субъекту возможность столкнуться с её тупиком и бессмысленностью.
Именно благодаря разрыву означающей цепочки удаётся обнаружить тупик, ведь если аксиома верна, то анализантка оказывается перед невозможностью присвоить себе это означающее женщина — ведь это означало бы быть дурой. Благодаря рассечению этой фантазматической связи на место возмущения и стыда приходит облегчение: операция разрыва указывает не только на сам тупик, но и на возможность выхода из него благодаря изолированию означающего женщина, лишённого своего определения.
Женские возможности
Подчёркивание этого означающего в статусе отдельного позволит поставить вопросы о женском. И это лишь перезапускает аналитическую работу, ведь в зияющей пустоте на месте провалившегося знания в отношении женского неизбежно появляется необходимость нового означающего.
Смысловая цепочка вновь запущена и множество смыслов приходит на освободившееся место знания (женщины «непредсказуемы», «коварны», «сложны», «сами себя не понимают»), иллюстрируя одно из основополагающих открытий Лакана о женщине, которая, «не-вся», навечно связана с нехваткой означающего — той самой нехваткой, которая не позволяет определению герметично закрыться, но и, напротив, предлагает массу возможностей.
И аналитик снова замолкает, предоставив, как и в подавляющем большинстве сеансов, бессознательному-толкователю этими возможностями воспользоваться. «“ Вы ничего не говорите?” Безусловно. В этом случае отмолчаться — наименьшее из зол, потому что бессознательное только и делает, что интерпретирует — и, как правило, занимается этим куда успешнее, чем аналитик. Если аналитик отмалчивается — бессознательное интерпретирует»5.
И бессознательное действительно интерпретирует, а предоставленные им толкования самодостаточны и наполнены смыслом. Образования бессознательного продемонстрируют на месте S2 целую серию означающих: женщину с фаллосом, женщину с отсутствием половых признаков, женщину—мать, женщину мужчины, женщину наслаждающуюся, женщину страдающую, женщину-соблазнительницу, женщину кастрированную, женщину кастрирующую… Каждое такое изобретение бессознательного претендует на истинность — до того самого момента, когда при случайной встрече с бессмысленностью очередного такого конструкта обнаружится этой истины неполнота. Однако неполнота истины в данном случае вовсе не означает ложь: вместо одного значения приходит множество, где все эти версии женского истинны и ложны одновременно. Поэтому ими можно пользоваться — при условии, что можно без них обойтись.
Инга Метревели
- Миллер Ж.-А. Интерпретация наизнанку // Международный психоаналитический журнал №9. М.: Фрейдово поле / Гнозис. 2020.
- Там же.
- Там же.
- Там же.
- Там же.